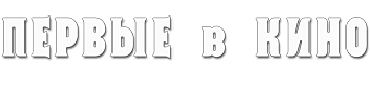Лариса Малюкова. «Новая газета». №31, 29.04.2002.
ПОТЕРЯВ, НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ПОТЕРЯННЫМ
Режиссер, который упрямством, подозрительно походит на своего героя: Винни Пуха
Если бы рейтинг советской анимации доверили мне, то распорядилась бы я так. Лучший сатирический мультик — «История одного преступления». Лучшая экранизация — «Винни-Пух». Лучшая мульткомедия — «Фильм, фильм, фильм». Лучшие детские фильмы — «Каникулы Бонифация» и «Топтыжка». И все эти соцветия и плоды — дело рук одного садовника — режиссера Федора ХИТРУКА.
1 мая патриарху российской анимации исполняется 85 лет.
— Федор Савельевич, столько лет прожили в профессии! Сейчас, когда есть время для размышлений, вспоминается ли нечто заветное, о чем мечталось, но что в силу обстоятельств не осуществилось?
— Да не так уж много интересных проектов было. Или сам не был готов, чтобы, потеряв, чувствовать себя потерянным. Но об одной вещи безмерно жалею. Сразу после «Истории одного преступления», когда еще запал не иссяк, Володя Голованов принес сценарий «Смерть пассажира». В духе «Истории…». Не по содержанию, по изобразительной стилистике, которую задал художник Сережа Алимов. Фильм о пассажире не был детским, кроме того, решался в несколько абсурдистском стиле, вроде Беккета. Потому и не разрешили. Но каюсь, не очень дрался. Во мне самом сидел внутренний цензор, он твердил: «Не пропустят». А вдруг пропустили бы? Я должен был сделать его как закрепление открытого, приобретенного на «Истории…». О человеке, который мчится в поезде со всеми вместе. А потом так ему все обрыдло, что силой желания поехал он вместе с полкой по одному пути, а поезд — по другому.
(Мы разыскали тот сценарий не поставленного прославленным режиссером фильма и опубликуем его в одном из майских номеров.— Л.М.)
— Известно, что до того, как стать режиссером, вы в качестве аниматора участвовали чуть ли не в ста лентах. Как же набрались вы храбрости и в пору процветания союзмультфильмовской «малышовой» традиции решились, как тот пассажир, уехать по другому пути?
— Аниматором я был традиционным до мозга костей. Даже когда одушевлял Оле Лукойе, мыслил традиционно. Но «История…» требовала другого языка. Какого? Чуть ли не четырех художников сменили, прежде чем нашел я Сергея Алимова. Он принес другую стилистику. Во ВГИКе они учились не столько у своих учителей, сколько у французской живописи, Дюфи… Возникло новое пространство. Дело происходит в городе: дома, улицы, нормальная перспектива. А он все поломал. Дома повисли в пустоте. Возник Образ города…
— За вами пошли многие: Хржановский, Назаров, Норштейн… Вы понимали, что меняете сам взгляд на анимацию, ее адресность?
— То же происходило в мире — с польской, чешской школами. В 59-м году я, побывав в Праге, увидел совершенно новую анимацию. Ветер перемен был не только в анимации: в книжной иллюстрации, театре, кино.
— Но студия — неповоротливый механизм, наверное, искания, эксперименты проходили со скрипом?
— Конечно. Не хочу брать на себя лишних заслуг: и время подгоняло, и ребята, с которыми работал. Они-то все были дебютанты, мои ученики. Еще не обросли псевдоклассической бородой. Главное, они еще не вполне понимали, что такое анимация. Воображали, сочиняли невозможное. Хржановский, когда делал Козявина, использовал вещи, над которыми оператор иронизировал, объясняя со знанием дела, что это в принципе невозможно. Диагональные панорамы, на столе городили невероятные конструкции. Но — получилось!
— Почему же вам разрешили выбраться из детских штанишек?
— Конечно, за фильмом приглядывали. Обычно премьерный показ в большом зале устраивался для всей студии. Тут же собрали малый худсовет. Человек пять смотрели в полном молчании. Вся наша группа сидела сзади и тряслась (потом Хитрук точно реконструирует этот «ужас» в пародии «Фильм, фильм, фильм». — Л.М.). Мы сами пришли в отчаяние — до чего плохой фильм. Столько ошибок, боже мой! В общем, трагическое настроение. А вся студия просто кипит. Ждут чего-то диссидентского. Запретом сделали нам рекламу, как «бульдозеристам». В тот же день фильм показали в большом зале. Народу набилось… Принимали, как ни один фильм, хлопать начали чуть ли не с первых кадров. Сработала система запрета. Но вот что интересно, Лариса, мы сами увидели другой фильм: смешной, яркий. Очень хорошо встретили зрители. Первым откликнулся Сергей Герасимов. Сказал речь, ее тиснули в журнале — мол, обратите внимание… Новое слово. И пошло-поехало.
Для отечественных аниматоров имя Хитрука столь же легендарно, как имя Диснея для их заокеанских коллег. Отличают его прежде всего феноменальная неудовлетворенность содеянным и еще фантастическое стремление шагнуть в пространство неизведанного. Ведь не только «История одного преступления» стала маленькой революцией, после которой советская анимация вышагнула из жестких рамок дозволенной детскости в сферу искусства, которому все подвластно: и комедия, и трагедия, и модерн, и классика. Но и каждый последующий фильм Хитрука был поворотом.
— Каковы виражи в вашей фильмографии: смешались жанры, стили, люди. С каждым новым фильмом вы, словно забыв все обретенное, начинали с нуля.
— Наверное, подсознательно хотелось каждый раз открыть завесу. Пока работал аниматором, мелькала масса идей, замыслов. Сумасшедших, честолюбивых — а не мог реализовать. Когда же ты — режиссер, хозяин, выбирай стилистику, приемы. Пробуй! Например, подглядел у режиссера Трынки в его «Бременских…» атмосферу таинственности. В наших сказках не получалось. Потому что русские сказки рисовались американской комиксовой линией — вот бы сделать другое: с мерцанием загадочности. Нашел в ящике стола свой же учебный сценарий. Про медвежонка. Была у меня мечта затаенная — сделать Чарушина. Это божественный художник-анималист. И все совпало. Но было титанически трудно. Каждый рисунок Чарушина неповторим, изыскан, как божье озарение: мазок кисти — медведь оживает. Но тут тысяча движений, фаз. Божественного откровения в «потоке» не скроишь. Чарушин оказался лишь отчасти похож. Но все-таки какой-то момент волшебства сохранился. И так каждый раз. Начинаешь новую картину, как открытие. Не только секретов анимации, но и мира. Вот Бонифаций — Лев, который ненавидит собственную работу, потому что вынужден изображать свирепого хищника, пугать публику. А он сам — несчастный, одинокий — боится. Подворачиваются, к счастью, каникулы. Оказывается, в Африке у него бабушка. В общем, фильм оказался про меня. Вкалывал Бонифаций на своих каникулах день и ночь, дети его не отпускали. И понял он, что счастлив: какая замечательная вещь — каникулы! Радость творчества — не труд, а душевное отдохновение.
А в «Человеке в рамке» —иная тема подвернулась и требовала иного подхода. Мы с Сережей Алимовым сочинили лицо героя, а в музее Пушкина снимали настоящие золотые рамы. Ведь «рама» — нечто реальное, плотное. От эпизода к эпизоду она становится толще и толще, сжимая человека.
— Наверное, за «Человека в рамке» вам досталось? Чиновники не любят видеть себя в «раме» экрана.
— Были проблемы во время работы, при сдаче заставили переделать конец.
— Каким же был он изначально?
— Прекрасный финал. Рама уже такая толстая, что человек в ней исчез. Последний раз через золотую амбразуру взглянул, и щель захлопнулась. При полном молчании из рамы вылетает листок. Медленно падает, на нем написано: «Нет» — «Не был» — «Не участвовал» — «Не существовал» — «Не привлекался». Это его душа вылетела. Остался же совершенно дурацкий финал. Девочка прыгает — как олицетворение жизни. Да еще под Баха, которого я безобразно записал. Рама распадается. А человека нет. И в этот раз я проявил малодушие. Учусь у своих учеников и младших коллег. Стойкости — у Норштейна. Он никогда не сдается и выдерживает. Выдержал же битву на «Сказке…», ни одной поправки не сделал.
Но чтобы ниспровергать, надо иметь почву под ногами — для толчка. Потому ратую за то, чтобы возродилась школа «Союзмультфильма», классической анимации Пащенко, Атаманова, Иванова-Вано, Ходатаевой, над которой мы посмеивались. А сейчас смотрю ее «Теремок», боже, какой он добрый, насколько лучше этих покемонов…
— А потом вы посмеялись над собой и всеми в пародии «Фильм, фильм, фильм»…
— Ох, самый тяжелый был фильм.
— А кажется, что снят на одном дыхании.
— Был я на очередном юбилее Шкловского. Полчаса он рассказывал о злоключениях, которые испытал в кинематографе. Об ужасах, мытарствах, потом расплылся в улыбке и сказал: «И это мое счастье!» Неожиданно и верно. Все эти мучения, борьба с идиотизмом, с самим собой, с материалом. Ты готов проклясть все, всех, кто рядом, самого себя — потом оказывается, что это и есть твое кинематографическое счастье.
Отчего-то не прирожден я делать одно и то же. Вот собирались «Винни Пуха» снять — 9 серий. Сделали одну — хорошую, она мне нравится. Вторая — хуже, третья — чувствую, что больше уже не могу. Серийный поток не умею. Даже если бы озолотили.
— А как отважились превратить Винни в сугубо национальный персонаж? Американский, на мой взгляд, — менее колоритный, самоигральный.
— Нет, тот, что был лет двадцать пять назад, хорош, телевизионный много хуже. Я ведь не знал, что Дисней делал «Винни Пуха», иначе, может, не решился бы. Их фильм больше событийный, а мой сосредоточен сам в себе. Посмотрел их фильм уже в Голливуде в 75-м году. Понравилось. А им понравился мой. Рейтерман, тот самый, что делал фильм, наговорил много добрых слов. Они снимали по книжным рисункам Шепарда. А мы искали своего. Мучительно. Не только внешность, но и голос.
— Про голос Леонова уже легенды складываются.
— И все же многое, чего хотелось, не удалось. Опять проклятое «мульти» — много — мешает. Ведь каждый лишний волосок — это тридцать с лишним тысяч лишних волосков на рисунках. Пришлось героя упростить. Второй Винни еще проще первого.
«Винни Пух» — кино радостное, в нем наивность и философичность, неразлучные, как герои, рождены редким качеством самого Хитрука: размышляя, изумляться, радоваться миру. Да и сам Винни сосредоточенностью, упрямством, желанием докопаться до истины подозрительно напоминает Федора Савельевича. В общем, вышел не «мульт-», а по-настоящему живой, то есть анимационный персонаж.
— Общеизвестны ваши самоедство, неудовлетворенность. Был ли момент, когда, закончив работу, вы бы всплеснули руками: «Ай да Хитрук!»?
— Насчет сукиного сына не дошел еще, но когда посмотрел готового «Топтыжку»… Мы так боялись, что ничего не получится, а получилось нечто, похожее на Чарушина. Главное, сказка, в которой дети помирили родителей, вышла, как задумывалась.
— А классика — «Каникулы Бонифация»?
— В нем есть проблемы. Вопросы ритма. Там во второй части — провисы.
— Значит, про самоедство все правда…
— Да нет. Вот почти сорок лет прошло. Уже смотрю Бонифация — вроде ничего, начинает нравиться. Дистанцировался от задумок. Они, задумки, всегда честолюбивы, завышают планку того, что можешь. Двадцать, сорок рук делают фильм. Хорошие, талантливые ребята. Что-то прибавят, убавят. Уже не знаешь, как переделать. Потом проходят годы, забываешь, что еще хотел там сделать, смотришь — ничего.
— Вот Норштейн снимает кино про себя. Какая из ваших картин наиболее личная?
— Не собирался преднамеренно делать автопортрет. Так получилось, что Бонифаций про меня. Бывая на просмотрах своих фильмов в детской аудитории, слышал смех, счастливые голоса и повторял: «Какая замечательная вещь — каникулы!». Плевать, забыть о страданиях, которые перенес во время работы. В каждом фильме рассказываешь отчасти про себя. Даже «Человек в рамке». Самоограничение, психологическая, социальная клаустрофобия есть во многих людях. И «Винни…» Трудно объяснить, что же я увидел, кроме чудесной истории…
— Актерские работы получились блистательные, но главный момент совпадения — Леонов.
— Однажды на творческом вечере он в шутку сказал, что это одна из удачнейших его ролей.
Но пришло время, когда захотелось сделать нормальный фильм. Тогда я взялся за сказку «Лев и Бык».
— Знаю, что это была одна из первых книжек, потрясших ваше воображение…
— Изобразительно фильм решали Володя Зуйков и Катя Залетаева, 15-летняя девочка. Мне хотелось, чтобы дети испытали то памятное мое детское потрясение. Я плакал над этой книжкой. Каждый раз перечитывал и плакал. Все надеялся, что не поверят могучие Лев и Бык подлому Шакалу… А они верили и погибали. И мама забрала книжку. 60 лет я ее не видел. В той сказке — огромная нравственная сила. Это история о доверчивости, как «Отелло». А Шакал — Яго. Текст убрал, хотя в нем много открывалось. Интрига в сказке была сложнее, чем получилось в фильме. Конечно, главное — игра… Но не вышло. И аниматоры были хорошие… Возможно, сам запутался.
— Неудовлетворенность результатом картины и привела вас к решению больше не снимать?
— Первую травму я испытал раньше. Фильм «Дарю тебе звезду» совершенно не получился.
— Хорошо, что зрители этого не знают.
— Был очень хороший сценарий. Но он оказался не «мультигеничен». Когда идеи легко переходят в рисунок, оживают. И персонаж бывает не мультигеничен.
— Из ваших персонажей знаковыми стали и Винни, и Бонифаций, и Пятачок, и печальный Ослик.
— Как ни странно, Бонифаций оказался невероятно трудным в работе. Его нельзя было поворачивать, в фас нельзя было нарисовать. Обаяние пропадало. Мучились. Но он хорошо смотрелся в профиль, и мы старались эту профильную магию сохранять. А Пятачок нашелся почти сразу. Я сказал: «У него тоненькая-тоненькая шейка, и сам он такой легкий, что не идет, а так сантиметра на два парит над землей». Винни был весь лохматый. Но, чтобы не умножать эти волосики на тысячу рисунков, пришлось его «побрить».
— А прототипы…
— Иной раз мы искали прототипы. К примеру, в «Фильме…» все полагают, что «режиссер» — пародия на Эйзенштейна. Потом я каждый раз вынужден был оправдываться перед публикой, мол, не имел в виду… Эйзенштейн был для меня иконой, на уме был совсем другой — Рошаль. И внешне, и по взрывному темпераменту.
— После «Льва и Быка» неужели не хотелось что-то сделать?
— Нет. Случилась личная трагедия, я был сломлен. А потом на студии все изменилось. И пошел я по пути художественного руководства. Стал преподавать. Понравилось. Вероятно, поэтому не было такой жажды снимать самому. Приятно иметь дело с молодежью.
— Особенно если эта «молодежь» — нынче весь цвет анимации.
— Когда я начал объяснять тайны профессии, сам открыл кое-что. Я радуюсь их успехам: Шуры Петрова, Леши Харитиди, Миши Тумели, Алеши Демина.
— Как смотрите на будущее российской анимации?
— Во мне внутри теплится не просто вера, а уверенность в том, что мы еще «покажем». Сейчас никто не востребован. Дешевле сдублировать «мыло», чем заказать что-нибудь свое. Но публика уже скучает по добротным фильмам «Союзмультфильма». Спрашиваете, верю ли я в будущее анимации? Вы вправе спросить: верю ли я в будущее своей страны? Хочется верить. Мы вылетали еще и не из таких передряг и ужасов.
— Боюсь, без «одушевления», ведь так переводится «анимация», не выйдет.
— Верно вы сказали, одушевление нужно, как скорая помощь: и анимации, и стране.
Когда я уже почти расшифровала интервью, магнитофон начал «шалить», потянул пленку на скорости и я отчетливо услышала два знакомых голоса: Федор Савельевич был «один в один» — Винни Пух, а я — Пятачок. Ну и не верь после этого в волшебство самого хитроумного из мультипликаторов — Федора Хитрука.